Памятник — Державин. Полный текст стихотворения — Памятник
Литература
Каталог стихотворений
Гавриил Державин — стихи
Гавриил Державин
Памятник
Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.Так! — весь я не умру, но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить,
И слава возрастет моя, не увядая,
Доколь славянов род вселенна будет чтить.Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал, Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить.О муза! возгордись заслугой справедливой,
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой неторопливой
Чело твое зарей бессмертия венчай.
1795 г.
Другие стихи этого автора
Властителям и судиям
Восстал всевышний бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Признание
Не умел я притворяться,
На святого походить,
Бог
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
О религии
Река времен в своем стремленьи…
Река времён в своём стремленьи
Уносит все дела людей
О жизни
Лебедь
Необычайным я пареньем
От тленна мира отделюсь,
Золотой век
Снигирь
Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый снигирь?
Золотой век
Как читать
Публикация
Как читать пьесу Александра Островского «Гроза»
История создания, ключевые образы и основные мотивы драмы
Публикация
Как читать «Преступление и наказание» Достоевского
Рассказываем о масштабном психологическом исследовании русского классика
Публикация
Как читать «Белую гвардию» Булгакова
Литературная традиция, христианские образы и размышления о конце света
Публикация
Как читать «Очарованного странника» Лескова
Почему Иван Флягин оказывается праведником, несмотря на далеко не безгрешную жизнь
Публикация
Как читать поэзию: основы стихосложения для начинающих
Что такое ритм, как отличить ямб от хорея и могут ли стихи быть без рифмы
Публикация
Как читать «Лето Господне» Шмелева
Почему в произведении о детстве важную роль играют религиозные образы
Публикация
Как читать «Двенадцать» Блока
На какие детали нужно обратить внимание, чтобы не упустить скрытые смыслы в поэме
Публикация
Как читать «Темные аллеи» Бунина
На что обратить внимание, чтобы понять знаменитый рассказ Ивана Бунина
Публикация
Как читать «Гранатовый браслет» Куприна
Что должен знать современный читатель, чтобы по-настоящему понять трагедию влюбленного чиновника
Публикация
Как читать «Доктора Живаго» Пастернака
Рассказываем о ключевых темах, образах и конфликтах романа Пастернака
«Культура. РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России. Мы рассказываем об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках нашей природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей и в любых современных интернет-форматах.
РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России. Мы рассказываем об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках нашей природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей и в любых современных интернет-форматах.
- О проекте
- Открытые данные
© 2013–2023, Минкультуры России. Все права защищены
Контакты
- E-mail: [email protected]
- Нашли опечатку? Ctrl+Enter
Материалы
При цитировании и копировании материалов с портала активная гиперссылка обязательна
Г.Р.Державин. Памятник
|
Подражания Горацию Александром Поупом
Ne Rubeam, Pingui donatus Munere
(Гораций, Послания II. i.267)
i.267)
Пока ты, великий покровитель человечества, поддержишь
Уравновешенный мир и откроешь все главный;
Свою страну, вождь, с оружием в руках за границей защищай,
Дома, с моралью, искусством и законами исправляй;
Как Муза у такого монарха украдет
Час и не лишит общественного блага?
Эдуард и Генрих, ныне хвастливые славой,
И добродетельный Альфред, более священное имя,
После жизни, перенесенной щедрым трудом,
Галлия покорена, или имущество защищено,
Честолюбие унижено, могущественные города штурмованы,
Или установлены законы, и мир реформирован;
Вздохом закрыли свою долгую славу, чтобы найти
Невольную благодарность низменного человечества!
Всякая человеческая добродетель до последнего вздоха
Находит зависть не побежденной, кроме как смертью.
Великий Алкидес, все прошлые труды,
Нужно было наконец покорить этого монстра.
Несомненна судьба всех, под чьим восходящим лучом
Меркнет каждая звезда меньших достоинств!
Угнетенные, мы чувствуем, как прямо бьют лучи,
Эти солнца славы пожалуйста, пока не зайдут.
Тебе мир воздает свое настоящее почтение,
Урожай ранний, но зрелая хвала:
Великий друг свободы! в царях имя
Превыше всех греков, превыше всей римской славы:
Чье слово есть истина, столь же священная и почитаемая,
Как собственные оракулы Небес с алтарей слышали.
Чудо королей! как кто, в глазах смертных
Никто никогда не поднимался, и никто никогда не восстанет.
Только в одном случае, пусть все же признается
Ваши люди, сэр, пристрастны в остальном:
Враги всего живого, кроме вашего собственного,
И защитники безрассудства мертвых и ушедших.
Авторы, как и монеты, дорожают по мере старения;
Мы ценим ржавчину, а не золото.
Худшая сквернословие Чосера выучено наизусть,
И чудовищные главы домов Скелтона цитата:
Никто не любит язык, кроме Королевы фей ;
Шотландец будет сражаться за Христов Кирк о’Зеленый:
И каждый истинный британец с Беном так вежлив,
Он клянется, что Музы встретили его у Дьявола.
Хотя по праву Грецией восхищаются ее старшие сыновья,
Почему бы нам не быть мудрее наших отцов?
Во всех общественных добродетелях мы преуспеваем:
Строим, рисуем, поем, а также танцуем,
И учёные Афины к нашему искусству должны склониться,
Увидеть бы она, как мы кувыркаемся сквозь обруч.
Если время улучшает наш ум так же, как вино,
Скажите, в каком возрасте поэт становится божественным?
Должны ли мы или не будем считать его так,
Кто умер, может быть, сто лет назад?
Завершить все споры; и установить год точно
Когда британские барды начнут бессмертие?
«У того, кто прожил целый век, не может быть недостатка,
Я считаю это классическим, хорошим в законе. »
»
Допустим, он хочет год, вы будете составлять?
И считать ли его древним, верным и здоровым,
Или, черт возьми, на всю вечность сразу,
В девяносто девять, современный и балбес?
«Мы не будем ссориться в течение года или двух;
Благодаря любезности Англии, он может».
Тогда по правилу, которое оголило хвощ,
Вырываю год за годом, как волосок за волоском,
И растапливаю древних, как кучу снега:
Пока ты, мерить заслуги , поищите в Стоу,
И оценивая авторов по годам,
Дарите гирлянду только на носилки.
Шекспир (которого вы и каждый театральный счет
Стиль божественный, несравненный, что хотите)
Ради наживы, а не славы,
И стал бессмертным вопреки собственной воле.
Бен, старый и бедный, мало кто, казалось, обращал внимание
Грядущая жизнь, в кредо каждого поэта.
Кто сейчас читает Коули? если он еще нравится,
Его мораль нравится, а не остроумие;
Забыл его эпос, нет, пиндарское искусство,
Но все же я люблю язык его сердца.
«Но несомненно, несомненно, это были знаменитые люди!
Какой мальчик, если не слышит высказывания старого Бена?
Во всех дебатах, в которых участвуют критики, искусство,
О характере Шекспира и остроумии Коули;
Как рассудительность Бомонта проверила то, что написал Флетчер;
Как Шедвелл торопился, Уичерли медлил;
Роу,
Они, только они поддерживают переполненную сцену,
От старшего Хейвуда до возраста Сиббера. голос бога
К Гаммеру Гертону если он даст гнедым,
И все же отрицать Беспечного Мужа хвалу,
Или сказать, что наши отцы никогда не нарушали правила;
тогда,
Я говорю, публика — дура. 0003
0003
Но пусть признают, что пороков больше, чем у нас
У них было, и достоинств побольше, я соглашусь.
Сам Спенсер воздействует на устаревшее,
И стих Сидни плохо останавливается на римских ногах:
Сильная шестерня Мильтона теперь не может связать Небеса,
Теперь, как змея, он подметает землю, в прозе
В придирках ангел и архангел объединяются,
И Бог Отец превращает школу в божественную.
Не то, чтобы я выкинул красавиц из его книги,
Словно Бентли хлестнул его отчаянным крюком,
Или к черту всего Шекспира, как этот притворный дурак
При дворе, кто что ненавидит он читал в школе.
Но для ума времен Чарльза,
Толпа джентльменов, которые писали с легкостью;
Шпрот, Кэрью, Седли и еще сотня,
(Как мерцающие звезды Сборник далее)
Одно сравнение, что сияет одиноко
В сухой пустыне тысячи строк,
Или мысль длиннее, что просвечивает через многие страницы,
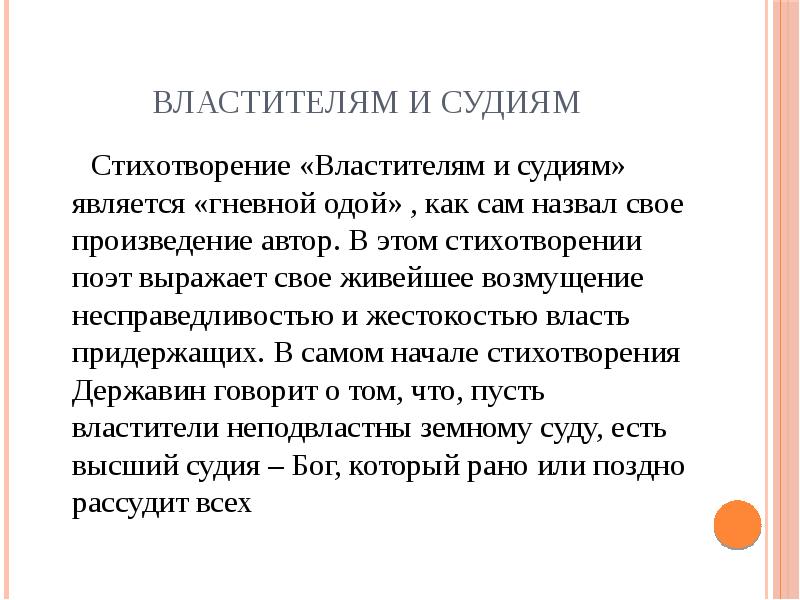
Я теряю терпение, и оно у меня тоже есть,
Когда порицают произведения, не такие плохие, а новые;
А если наши старики нарушат все законы разума,
Эти дураки требуют не прощения, а аплодисментов.
На берегу Эйвона, где цветет вечный удар,
Если я спрошу, могут ли расти какие-либо сорняки?
Одно трагическое предложение, если я посмею высмеивать,
Которое серьезное действие Беттертона возвеличило,
Или красноречивый Бут с акцентом провозглашает
(Хотя, но, возможно, список имен)
Как восстанут в ярости наши отцы,
И клянусь, в век Джорджа пропал весь позор!
Можно подумать, что дураки не опозорили былое царствование,
Разве не осталось еще тяжких примеров,
Кто презирает юношу, пусть обучает своего отца искусству,
И, однажды ошибившись, будет так до сих пор.
Тот, кто кажется более глубоким, чем ты или я,
Превозносит старых бардов, или Пророчество Мерлина,
Не ошибись; он завидует, а не восхищается,
И унижает сыновей, возвышает отцов.
Были ли древние времена сговорились запретить
Что тогда было новым, что было теперь древним?
Или что осталось, столь достойное прочтения
Ученые критики могучих мертвецов?
В дни покоя, когда усталый меч
Был вложен в ножны, и роскошь с Чарльзом восстановлена;
На любой вкус иностранных дворов,
«Все, по примеру короля, жили и любили».
Потом сверстники возгордились искусством верховой езды t’excel,
Слава Ньюмаркета росла, а Британия падала;
Солдат дышал доблестью Франции,
И каждый флоу’ри придворный писал роман.
Тогда мрамор, размякший к жизни, согрелся,
И уступчивый металл струился в человеческий облик:
Лели на оживлённом холсте украл
Сонный глаз, говоривший о тающей душе.
Неудивительно тогда, когда все было любовью и забавой,
Добровольные Музы были развратны при дворе:
На каждой ослабленной струне они научили ноту
Задыхаться или дрожать через горло евнуха.
Но Британия, изменчивая, как играющий ребенок,
То зовет принцев, то отворачивается:
То виги, то тори, то, что мы любили, то ненавидим;
Теперь все для удовольствия, теперь для церкви и государства;
Теперь о прерогативе, а теперь о законах;
Эффекты недовольны! из благородного дела.
Было время, трезвый англичанин постучал бы
Его слуги встали и встали к пяти часам,
Наставили свою семью во всех правилах,
И отправили свою жену в церковь, своего сына в школу.
Поклоняться, как его отцы, было его заботой;
Научить своих скромных добродетелей своему наследнику;
Чтобы доказать, что роскошь никогда не выдержит,
И отдать под надежную защиту его золото.
Ныне времена изменились, и один поэтический зуд
Захватил двор и город, бедных и богатых:
Сыновья, отцы и дедушки, все будут носить гнедые,
Наши жены читают Мильтона, а наши дочери играют,
В театры и на репетиции толпятся,
И вся наша благодать за столом — песня.
Я, так часто отрекающийся от муз, лгу,
Не {-}{-}{-}{-}{-} сам больше лжет, чем я;
Когда нас тошнит от Muse, мы сожалеем о наших глупостях,
И обещаем нашим лучшим друзьям больше не рифмовать;
На следующее утро мы просыпаемся в приступе ярости,
И требуем перо и чернила, чтобы показать наше остроумие.
Он проходил стажировку, открывая магазин;
Уорд примерял щенков и бедняков, свою каплю;
Врачи Эвна Рэдклиффа сначала едут во Францию,
И не смеют заниматься, пока не научатся танцевать.
Кто строит мост, в который никогда не вбивали сваи?
(Если Рипли отважится, весь мир улыбнется)
Но те, кто не умеет писать, и те, кто умеет,
Все рифмы, и каракули, и каракули, для человека.
Тем не менее, сэр, подумайте, беда невелика;
Эти безумцы никогда не причиняли вреда церкви или государству:
Иногда глупость приносит пользу человечеству;
И редко av’rice портит мелодичный ум.
Позвольте ему только его игрушку из пера,
Он никогда не бунтует и не замышляет, как другие люди:
Бегство кассиров или бандитов, ему все равно;
И не знает потерь, пока Муза добра.
Чтобы обмануть друга или подопечного, он уходит к Питеру;
Хороший человек ничего не нагромождает, кроме одного метра,
В тишине наслаждается своим садом и своей книгой;
А потом — идеальный отшельник в своей диете.
Малополезный человек, которого вы можете предположить,
Кто говорит стихами то, что другие говорят прозой:
И все же позвольте мне показать, поэт имеет некоторое значение,
И (хотя и не солдат) полезен для штат.
Что ребенок выучит раньше, чем песню?
Чему лучше научить иностранца языку?
Что длинное, что короткое, каждый ударение где ставить,
И говорить публично с каким-то изяществом.
Едва ли я могу считать его такой бесполезной вещью,
Если только он не похвалит какого-нибудь монстра короля;
Или добродетель или религия превратятся в спорт,
Чтобы угодить непристойному или неверующему двору.
Несчастный Драйден! За все дни Чарльза
Роскоммон может похвастаться только незапятнанными гнедыми;
И в нашей (извините за куртуазные пятна)
Нет более белой страницы, чем Эддисон.
Он от вкуса непристойного исцеляет нашу юность,
И страсти на сторону правды настраивает,
Нежнейшим искусством формирует мягкую грудь,
И изливает в сердце каждую человеческую добродетель.
Пусть Ирландия расскажет, как остроумие поддержало ее дело,
Ее торговля поддерживала и снабжала ее законы;
И оставьте на Свифте этот благодарный стих, выгравированный,
«Права, на которые суд напал, поэт спас».
Взгляните на руку, исцелившую нацию,
Протянутую, чтобы помочь идиоту и бедняку,
Гордый порок, чтобы заклеймить или ранить, достойный украшения,
И протянуть луч на века еще нерожденный.
Нет, но есть и другие пальмы;
Хопкинс и Стернхолд радовали сердце псалмами:
Мальчики и девочки, которых поддерживает благотворительность,
Умоляю вас о помощи в этих жалких стихах:
Как может преданность коснуться безлюдных деревенских скамеек,
3
3 боги даровали настоящую музу?
Стих веселит их досуг, стих помогает их работе,
Стих молит о мире, или воспевает Папу и Турка.
Молчаливый проповедник уступает мощному напряжению,
И чувствует, что напрасно молится о благодати;
Благословение волнует всю лабораторную толпу,
И Небеса завоеваны силой песни.
Наши сельские предки, с малым благословением,
Терпеливые труды, когда концом был покой,
Потворствовали дню, в который хранили свое годовое зерно,
Пирами и приношениями, и благодарственное напряжение:
Радость, которую разделяют их жены, их сыновья и слуги,
Легкость их труда и соучастники их заботы:
Смех, шутка, слуги на чаше,
Разглаживает каждый лоб и открывает каждую душу:
С годами росла радующая лицензия,
И невинно летели чередующиеся насмешки.
Но времена испорчены, а природа злая,
Произвела то, что оставило жало;
Пока друг с другом, и семьи в ссоре,
Торжествующая злоба прорывается сквозь частную жизнь.
Кто чувствовал неправоту или боялся ее, поднял тревогу,
Обратился к суду, и правосудие протянуло ей руку.
В конце концов, из-за благотворного страха перед связанными законами,
Поэты научились нравиться, а не ранить:
Больше всего склонились к лести; но некоторые, более приятные,
Сохранили свободу и воздержались от порока.
Отсюда сатира поднялась, вот только средний хит,
И лечит моралью то, что больно остроумием.
Мы завоевали Францию, но почувствовали чары нашего пленника;
Ее искусство победоносно победило наше оружие;
Британия к мягким изысканностям меньше врага,
Остроумие стало вежливым, и числа научились течь.
Уоллер был гладким; но Драйден научил соединять
Разнообразный стих, полнозвучную строчку,
Долгий величественный марш и божественную энергию.
Хотя еще какие-то следы нашей деревенской жилки
И косоязычный стих остался и останется.
Поздно, очень поздно, правильность взрастила нашу заботу,
Когда усталая нация дышала от гражданской войны.
Точно Расин и благородный огонь Корнеля
Показали нам, что Францией есть чем восхищаться.
Не только трагический дух был наш собственный,
И полный в Шекспире, справедливый в Отвее сиял:
Но Отвею не удалось отполировать или усовершенствовать,
И беглый Шекспир едва стер строчку.
Ev’n многочисленный Драйден хотел, или забыл,
Последнее и величайшее искусство, искусство пятнать.
Некоторые сомневаются, если равные боли или равный огонь
Скромнее Муза комедии требует.
Но в известных образах жизни я предполагаю
Труд больше, чем потворство меньше.
Обратите внимание, как редко даже лучшие добиваются успеха:
Скажите мне, действительно ли дураки Конгрива дураки?
Какой дерзкий, низкий диалог написал Фарку’ар!
Как Ван хочет изящества, никогда не желавшего остроумия!
Сцена, как развязно ступает Астрея,
Кто справедливо укладывает всех персонажей спать!
И бездельник Сиббер, как он нарушает законы,
Чтобы бедный Пинки ел под бурные аплодисменты!
Но наполни их кошелек, наша поэтическая работа сделана,
Как и они, пафосом или каламбуром.
О вы! кого несет легкая кора тщеславия
В безумном путешествии славы на ветру хвалы,
С каким переменчивым ветром ты плывешь по курсу,
Навсегда слишком низко опускаясь или поднимаясь слишком высоко!
Тот, кто жаждет славы, находит лишь короткий отдых,
Дыхание оживляет его или дуновение ниспровергает.
Прощай, сцена! если так же, как процветает игра,
Глупый бард жиреет или отпадает.
Осталось еще, чтобы умертвить остроумие,
Многоголовое чудовище преисподней:
Бессмысленная, никчемная и бесчестная толпа;
Кто, чтобы побеспокоить своих лучших, могучих гордецов,
Стуча палками до того, как будут произнесены десять строк,
Призыв к фарсу, медведю или черной шутке.
Какое наслаждение доставляет британцам фарс!
Фарс когда-то был вкусом мобов, а теперь — лордов;
(На вкус, вечный странник, теперь летит
Из головы в уши, а теперь из ушей в глаза.)
Спектакль стоит на месте; проклятое действие и дискурс,
Обратно летите по сценам и входите пешком и на лошади;
Конкурсы на конкурсы, в длинном порядке,
Пэры, глашатаи, епископы, горностай, золото и лужайка;
Чемпион тоже! и, чтобы завершить шутку,
Броня Старого Эдварда сияет на груди Сиббера.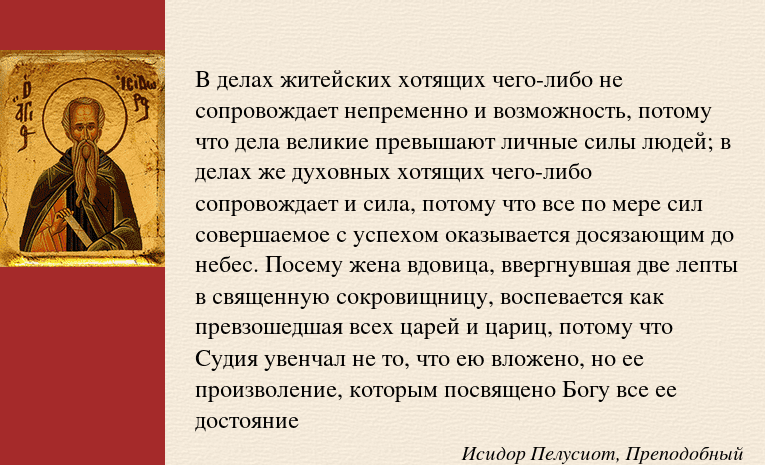
Со смехом уверен, что Демокрит умер,
Если бы он видел, как широко зияла публика.
Пусть медведь или слон будут всегда такими белыми,
Люди, конечно, люди — загляденье!
Ах, несчастный поэт! растяни свои легкие и зарычи,
Этот медведь или слон прислушаются к тебе больше;
В то время как все глотки простираются в галерее,
И все громы пропасти восходят!
Громко, как волки на бурной крутизне косаток,
Воют под рев северной пучины.
Таков крик, долгие аплодисменты,
На высоком плюме Куина или на нижней юбке Олдфилда,
Или когда из двора дарован костюм на день рождения
Тонет потерянный актер в безвкусном .
Входит Бут — слушайте! вселенский звон!
«Но он говорил?» Не слог.
«Что потрясло сцену и заставило людей смотреть?»
Длинный парик Катона, струящееся платье и лакированное кресло.
Но чтобы вы не думали, что я объединяю больше, чем учу,
Или злобно восхваляю искусства, которых я не могу достичь,
Позвольте мне на этот раз предположить, что я наставляю время,
Чтобы отличить поэта от человека рифмы :
‘Это он, который дает моей груди тысячу болей,
Может заставить меня чувствовать каждую страсть, которую он симулирует;
Приведи в ярость, сочини, более чем волшебное искусство,
С жалостью и ужасом разорви мое сердце;
И схвати меня по земле или по воздуху,
В Фивы, в Афины, когда захочет и куда.
Но не эта часть поэтического состояния
Одна заслуживает благосклонности великих:
Подумайте о тех авторах, сэр, которые
полагаются больше на чувство читателя, чем на взгляд созерцателя.
Или кто будет бродить там, где поют музы?
Кто поднимается на гору или пробует их весну?
Как мы наполним библиотеку остроумием,
Когда пещера Мерлина еще наполовину не обставлена?
Мой повелитель! почему писатели мало претендуют на твою мысль,
Я догадываюсь: и, с их позволения, скажут вину:
Мы поэты (по слову поэта)
Из всего человечества самые нелепые создания:
Время года, когда наступить и когда уйти,
Петь или перестать петь, мы никогда не узнаем;
А если мы будем читать девять часов через десять,
Вы потеряете терпение, как и другие мужчины.
Тогда и мы сами себя обидим, когда защищаться
Один куплет, мы с другом поссоримся;
Повторить без запроса; плачь, остроумие слишком тонкое
Для вульгарных глаз, и указывай каждую строчку.
Но больше всего, когда напрягается слишком слабое крыло,
Нам нужно будет писать послания королю;
И с того момента, как мы обязали город,
Ожидайте места или пенсии от Короны;
Или прозванные историками по экспресс-команде,
Запишите свои триумфы над морями и сушей,
Быть вызванным в суд, чтобы спланировать какое-то божественное дело,
Как когда-то для Луи, Буало и Расина.
Но подумайте, великий сэр! (показано так много добродетелей)
Ах, подумай, какой поэт лучше всего может рассказать о них?
Или выбрать хоть какого-нибудь служителя благодати,
Годного наградить весомое место лауреата.
Чарльз, в поздние времена, чтобы быть переданным справедливо,
Поручил свою фигуру на попечение Бернини;
И великий Нассау в руки Кнеллера постановил
Чтобы закрепить его грациозно на скачущем коне;
Так хорошо в красках и камне они судили по достоинству:
Но королям остроумия может не хватать проницательного духа.
Герой Уильям и мученик Чарльз,
Один Блэкмор был посвящен в рыцари, а другой Куорлз получил пенсию;
Что заставило старого Бена и угрюмого Денниса поклясться,
«Не божий помазанник, а русский медведь».
Не с таким величием, с таким смелым рельефом,
Формы августа, короля или вождя-завоевателя,
E’er вздулись на мраморе; как в стихах блестят
(в полированных стихах) манеры и ум.
О! мог бы я взойти на монийское крыло,
Твои руки, твои действия, твой покой петь!
Какие моря ты переплыл! и какие поля вы сражались!
Мир вашей страны, как часто, как дорого покупается!
Как варварская ярость утихла от твоего слова,
И дивились народы, выронив меч!
Как, когда ты кивнул, над землей и глубиной,
Мир украла ее крыло и окутала мир сном;
До пределов земли твоим посредничеством владеешь,
И трепещут азиатские тираны у твоего трона—
Но стих, увы! ваше величество презирает;
А я не привык к панегирикам:
Рвение дураков оскорбляет во всякое время,
Но более всего рвение дураков к рифме,
Кроме того, судьба сопровождает все, что я пишу,
Что, когда я стремлюсь к похвале, говорят я кусаюсь.
Подлый панегирик вдвойне осмеян:
Нет ничего чернее чернил глупцов;
Если правда, то печальное подобие; а если ложь,
«Незаслуженная похвала — это замаскированный скандал».
Пусть краснеет тот, кто дает или получает;
И когда я льщу, пусть мои грязные листья
(Как журналы, оды и тому подобные забытые вещи
Как Юсден, Филипс, Сеттл, приказ королей) ‘кольцо подряд,
Вдоль рельсов Бедлама и Сохо.
Очерк критики. Часть 3 Александра Поупа
Узнайте тогда, что должны показать критики морали,
Знать — это только половина задачи судьи.
‘Этого недостаточно, пробуй, суди, учись, присоединяйся;
Во всем, что вы говорите, пусть сияют правда и искренность:
Не только то, что нужно твоему разуму,
Все разрешено; но ищите дружбы тоже.
Всегда молчи, когда сомневаешься в своих чувствах;
И говорить, хоть и уверенно, но с кажущейся неуверенностью:
Некоторые положительные, упорные пижоны, которых мы знаем,
Кто, если однажды ошибся, будет всегда так;
Но ты, охотно признай свои прошлые ошибки,
И делать каждый день критику на последний.
‘Этого недостаточно, ваш совет все еще верен;
Грубая правда приносит больше вреда, чем красивая ложь;
Людей нужно учить так, как будто вы их не учите;
И вещи неизвестные предложили, как вещи забыли.
Без хорошего воспитания истина не одобряется;
Это имеет только высший смысл belov’d.
Не скупитесь на советы без предлога;
Ибо худшая алчность — это скупость разума.
С подлым самодовольством никогда не предавай своего доверия,
Не будь таким вежливым, чтобы оказаться несправедливым.
Не бойся гнева мудрых поднять;
Лучшие могут вынести порицание, кто достоин похвалы.
‘Если бы критики все же взяли эту свободу,
Но Аппий краснеет от каждого твоего слова,
И смотрит, Потрясающе ! с угрожающим взглядом,
Как свирепый тиран на старом гобелене!
Больше всего бойтесь обложить налогом благородного дурака,
Чье право без цензуры быть скучным;
Таковы, без ума, поэты, когда им вздумается,
Так как без обучения они могут получить степень.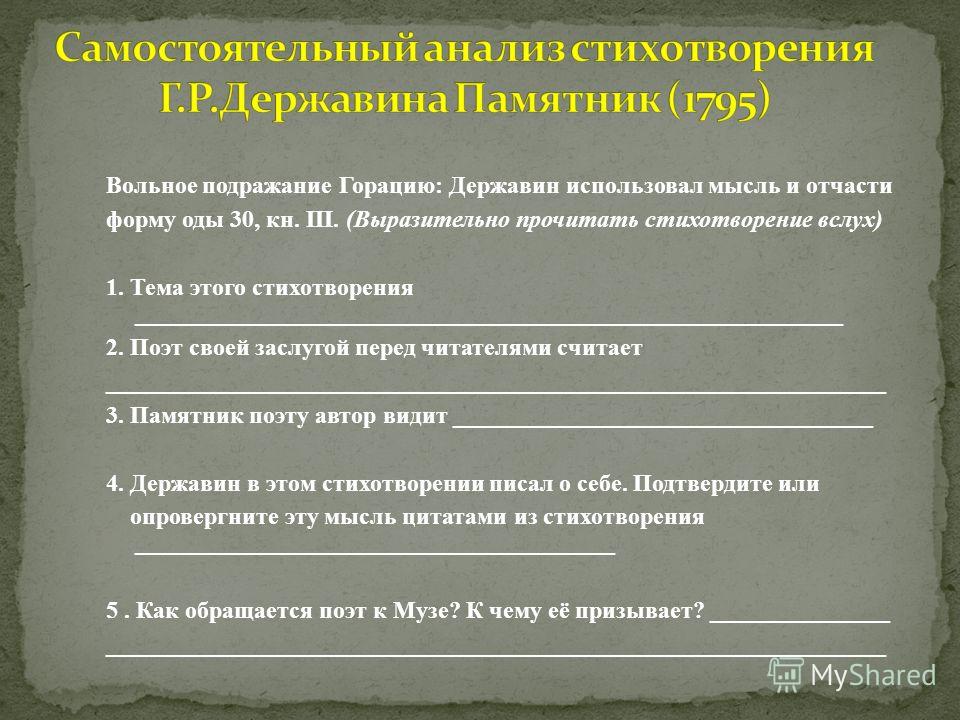
Опасные истины оставь неудачным сатирам,
И лесть фулловым посвящающим,
Кому, когда они восхваляют, мир больше не верит,
Чем, когда они обещают дать писанину.
Лучше иногда сдерживать порицание,
И, милостиво, пусть тупые будут тщеславны:
Твоё молчание лучше твоей злобы,
Кто может ругаться, пока умеет писать?
Все еще напевая, они продолжают свой сонный курс,
И так долго, как волчки, спят.
Ложные шаги, но помоги им возобновить род,
Как после спотыкания, нефриты исправят свой шаг.
Какие толпы этих, нераскаявшихся дерзких,
В звуках и звенящих слогах состарившихся,
Все еще бегу на поэтов, в бушующем тоне,
Даже до мух и выжимок мозга,
Процедить последние тусклые капли их разума,
И рифмовать со всей яростью бессилия!
Такие бессовестные барды у нас есть; и все же это правда,
Есть такие же безумные, заброшенные критики.
Книжный болван, невежественно прочитанный,
С кучей знаний в голове,
Своим языком все еще назидает слух,
И всегда прислушивается к себе.
Все книги, которые он читает, и все, что он читает, нападает,
От басен Драйдена до сказок Дерфи.
С ним большинство авторов воруют свои произведения или покупают;
Гарт не написал свой собственный диспансер .
Назовите новую пьесу, и он друг поэта,
Нет, он показал свои недостатки — но когда же поэты исправятся?
Ни одно священное место от таких щеголей не закрыто,
Церковь Павла не более безопасна, чем кладбище Павла:
Нет, летите к алтарям; там тебя скажут мертвым:
Глупцы спешат туда, куда боятся ступить ангелы.
Говорит недоверчивое чувство со скромной осторожностью;
Он по-прежнему выглядит домом и делает короткие экскурсии;
Но дребезжащий бред полными залпами рвется;
И никогда не пугался и никогда не отворачивался,
Вспыхивает, не сопротивляясь, с громовым приливом.
Но где же человек, который может дать совет,
Все еще рад преподавать, но не гордится тем, что знает?
Беспристрастный, по милости или вопреки;
Не тупо предвзятый, ни слепо правильный;
Хотя ученый, воспитанный; и хотя хорошо воспитанный, искренний;
Скромно смело и по-человечески сурово?
Кто другу свои недостатки может свободно показать,
И охотно восхвалять заслуги недруга?
Блест со вкусом точным, но неограниченным;
Знание книг и людей;
Великодушный разговор; душа, свободная от гордыни;
И любовь к похвале, с разумом на его стороне?
Такие когда-то были критики; такие счастливые немногие,
Афины и Рим в лучшие времена знали.
Могучий Стагирит впервые покинул берег,
Расправь все свои паруса и отважься исследовать глубины:
Он вел уверенно и далеко ушел,
Ведомые светом Меонской звезды.
Поэты, раса, долгое время ничем не ограниченная и свободная,
Все еще любящий и гордящийся дикой свободой,
Получил его законы; и встал, убежденный, что это годится,
Кто победил природу, тот должен управлять остроумием.
Гораций по-прежнему очаровывает изящной небрежностью,
И без методов вразумляет нас,
Как друг, фамильярно передам
Самые верные идеи самым простым способом.
Тот, кто верховен в суждениях, как и в остроумии,
Мог бы смело порицать, как он смело написал,
Но судил с хладнокровием, хоть и пел огнем;
Его заповеди учат тому, чему вдохновляют его дела.
Наши критики придерживаются противоположной крайности,
С яростью судят, а пишут злобно:
Гораций больше страдает от неправильных переводов
По остроумию, чем критики в качестве неверных цитат.
Смотри, мысли Дионисия Гомера утончаются,
И зови новых красавиц из каждой строки!
Фантазии и искусство в веселом Петронии, пожалуйста,
Обучение ученого с легкостью придворного.
В могиле Квинтилиана в обильной работе мы находим
Справедливейшие правила и яснейший метод соединены;
Таким образом полезное оружие в магазинах мы размещаем,
Все расставлены по порядку и расставлены с изяществом,
Но меньше радовать глаз, чем вооружать руку,
Все еще годен к использованию и готов по команде.
Тебе, смелый Лонгин! все Девять вдохновляют,
И благослови их критика огнем поэта.
Ярый судья, усердный в своем доверии,
С теплотой выносит приговор, но всегда справедлив;
Чей собственный пример укрепляет все его законы;
И сам является тем великим возвышенным, что рисует.
Так долго справедливо царствовали сменяющие друг друга критики,
Лицензия подавлена, и установлены полезные законы;
Учение и Рим одинаково в империи росли,
И искусство все еще преследовало ее орлов;
От одних и тех же врагов, наконец, оба почувствовали свою гибель,
И в том же возрасте увидел падение обучения, и Рим.
С тиранией, затем с суеверием,
Как и тело, это поработило разум;
Во многое верили, но мало что понимали,
И быть скучным считалось хорошим;
Второй потоп учится таким образом,
И монахи закончили то, что начали готы.
Наконец, Эразм, это великое оскорбленное имя,
(Слава священству и позор!)
Остановил дикий поток варварского века,
И прогнал со сцены этих святых вандалов.
Но смотрите! каждая муза, в золотые дни Льва,
Вздрагивает от транса и подстригает свои иссохшие гнедые!
Древний гений Рима, раскинувшийся над его руинами,
Стряхивает пыль и поднимает преподобную голову!
Затем возрождаются скульптура и родственные ей искусства;
Камни прыгали, формировались, и скалы ожили;
С более сладкими нотами каждая восходящая ступенька храма;
Рафаэль нарисован, а Вида спета.
Бессмертная Вида! на чьей чести чело
Бухта поэта и плющ критика растут:
Кремона теперь всегда будет хвалиться твоим именем,
Следующее место после Мантуи, второе место в славе!
Но вскоре нечестивым оружием из Лациума изгнаны,
Их древние границы прошли изгнанные Музы;
Отсюда искусство над всем северным миром развивается;
Но больше всего критика процветала во Франции.
Правила, которым нация рождена служить, подчиняется,
А Буало еще справа от Горация качается.
Но мы, храбрые британцы, законы чужие презираем,
Непокоренный и нецивилизованный,
Свирепый за вольность остроумия и смелый,
Мы по-прежнему бросали вызов римлянам, как и прежде.
Тем не менее некоторые были, среди немногих более надежных
Из тех, кто менее самонадеян и лучше знал,
Кто посмеет утверждать более справедливое древнее дело,
А здесь восстановлены основные законы.
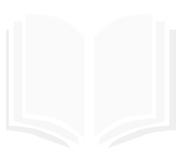

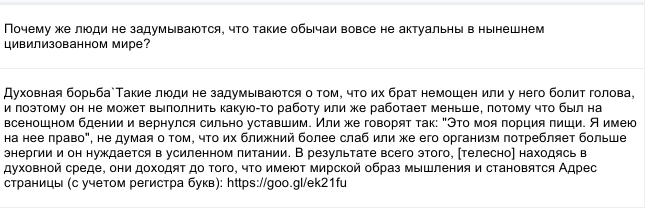


 ..»). (вернуться)
..»). (вернуться)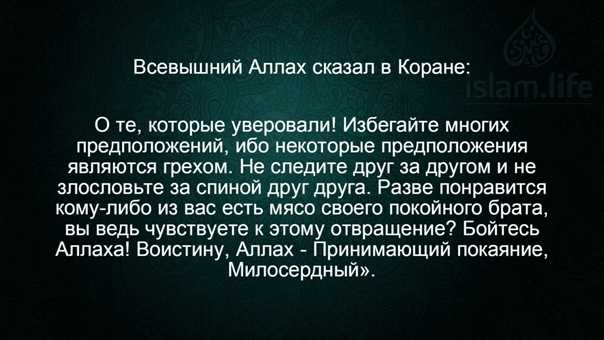 Написав восемь строк, поэт не успел его закончить.
Написав восемь строк, поэт не успел его закончить. 
Leave A Comment